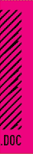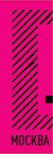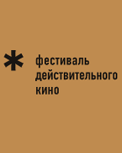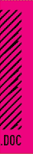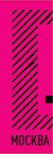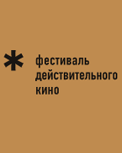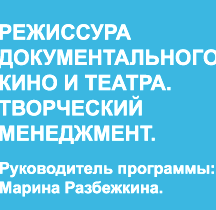

|
SHOAH в Кинотеатре.doc
Юля Лидерман и Даша Ли
"Холокост со времен Распятия величайшая травма
европейской этики современного человека"
И. Кертес
Фильм К.Ланцманна "SHOAH" длится 9, 5 часов. К. Ланцманн работал над ним 12 лет. Он был закончен в 1985 и с тех пор был показан по всем государственным европейским каналам (например, Arte (Франция), ZDF (Германия)); и вошел в постоянную экспозицию United States Holocaust Memorial Museum в Вашингтоне (США) и Imperial War Museum Holocaust в Лондоне (Великобритания). За последние годы его увидели зрители Китая, Эфиопии, и, наконец, к 60-летию Победы он был показан на центральном государственном канале Украины "1+1". Этот фильм вошел в академические программы европейских и американских университетов, о нем написаны книги: философами, историками, киноведами. Последний фильм К.Ланцманна "Собибор, 14 октября, 16.00" вошел в программу Каннского фестиваля 2001. SHOAH вызвал дискуссию в среде европейских интеллектуалов, в которой обсуждались права и обязанности элит, проблемы свидетельствования и памяти о Холокосте.
Фильм представляет собой ряд интервью с участниками, жертвами и свидетелями массовых депортаций и массового уничтожения евреев. Монтаж и отбор фрагментов К. Ланцманна обнаруживают не только хронологический, но и тематический принцип организации добытых им свидетельств.
Хронологически первые две серии посвящены первому периоду уничтожения (время гетто, время до принятия "окончательного решения еврейского вопроса, время строительства первых лагерей уничтожения на территории Польши). Две последние части рассказывают о втором периоде уничтожения: департации евреев из других европейских стран, строительстве концентрационных лагерей нового типа, уничтожении варшавского гетто, уничтожение следов лагерей на территории Польши.
Тематически же К. Ланцманн организует документы и свидетельства вокруг следующих тем:
- Неготовность распознавать признаки катастрофичности в повседневной жизни, надежда как инструмент дьявола и безграничность способностей человека адаптироваться.
- Логистика уничтожения. Этапы рационализации "окончательного решения еврейского вопроса". Беспрецедентные изобретения нацистского сознания.
- Жизнь после Освенцима. Возможности сопротивления?..
Мы видим острую необходимость показывать его именно здесь и именно сейчас. Как показывают празднования 60-летия Победы, память о Холокосте не включена в официальную и массовую память о Второй мировой войне. К. Ланцманн указывает на "места беспамятства", места исторической травмы, места вытеснения, существующие помимо мест памяти.
К. Ланцманн относится к тем, кто считает Освенцим центральным событием европейской культуры 20 века. Так же как Т. Адорно, Х. Аренд, П. Целан, И. Кертес, автор SHOAH рассматривает массовое уничтожение европейского еврейства как крах европейской культуры. К. Ланцманна интересуют механизмы человеческой адаптивности, конформизма, пассивности, равнодушия, экзистенциальный выбор и стратегии выживания его героев, общие места их мышления, позволившие им выжить, пережить, продолжать жизнь ПОСЛЕ. В конечном счете, его интересуют основания жизни после Освенцима. Принципиальная возможность искусства, языка, традиции, ценностей, культуры ПОСЛЕ.
Если нам предстоит и дальше соотносить себя с европейской культурой, нужно пересмотреть обыденный или навязываемый взгляд на произошедшую катастрофу как на дело этнического сообщества, необходимо соотнести себя со свидетелями.
К. Ланцманн дает своему зрителю такую возможность, включая его в ситуацию возможности/невозможности понимания опыта своих героев, ведя его по поросшим травой местам, где раньше располагались лагеря, ведя его по дорогам, пройденным жертвами и экзекуторами, которыми теперь они возвращаются к своей памяти.
Сила К. Ланцманна в том, что он выбирает для своих антропологических и исторических размышлений такое медиа как кино, при этом не показывая фотографий, хроник, собственно визуальных документов. Он не дает нам возможности наблюдать страдания других, но сталкивает нас с необходимостью представить. Огромный резонанс его фильма связан еще и с его личным экспериментом. Он находит уникальный способ говорить о нерационализируемом опыте. Помещая интервью со свидетелями на место событий, о которых ведется речь, К. Ланцманн обнаруживает сложную многоуровневую метафору места. Это как бы пирамида из колец вокруг одной оси:
Место памяти =
Место уничтожения=
Место интервью=
Место самопринуждения интервьюируемого=
Место публичности, в котором обнаруживает себя зритель.
Это только один из очень сильных режиссерских приемов. Я не стану подробно описывать другие уникальные находки. Замечу лишь, что место, наверное, единственный объект изображения. Ни события, ни документальные кадры на экране в фильме К. Ланцманна не появятся. Обо всем лишь только ведется разговор.
Мы бы хотели под конец предоставить слово венгерскому писателю, бывшему узнику Освенцима и свидетелю послевоенного тоталитарного режима в Венгрии Имре Кертесу. В своей Нобелевской речи он говорит о том, что социализм стал для него поводом освоить свой лагерный опыт. Сейчас, когда для большинства россиян время брежневского правления кажется символом благополучной жизни, мне бы хотелось предложить и другое мнение о диктатуре. Имре Кертес, соотнося поведение человека в концентрационном лагере и при тоталитарном режиме, как и К. Ланцманн ставит вопрос о базовых ценностях европейской цивилизации:
"После концлагеря меня спасло от самоубийства то "общество", которое в образе так называемого "сталинизма" убедило меня, что о таких вещах, как свобода, освобождение, катарсис и прочее, то есть о том, о чем в более счастливых краях интеллигенты, мыслители и философы не только говорили, но в которые, очевидно, и верили, - что для меня обо всем этом и речи быть не может; это общество гарантировало лишь продолжение рабского бытия и, таким образом, исключало саму возможность каких-либо заблуждений" .
13,14,15 мая в Кинотеатре.doc, благодаря отзывчивости организаторов Кинотеатра. doc М.Синева и В.Федосеева, состоялся первый некоммерческий показ SHOAH в России. В конце показа дожившие до конца второго периода уничтожения зрители, а тех, кого мы опознали, мы хотим назвать здесь поименно:
- правозащитник, член совета Музея и общественного центра "Мир, прогресс, права человека" им. Андрея Сахарова Ю. Самодуров;
- поэт, редактор Радио Свобода Е. Фанайлова;
- Переводчик и социолог Б.В. Дубин (Аналитический Левада-Центр);
- Социолог Л.Д. Гудков (Аналитический Левада-Центр);
- автор статей по истории и теории кино, преподаватель ГЭУ ВШЭ Н. Самутина.
- автор книг и статей по истории и теории кино О. Аронсон;
- литературовед Е. Земскова (Русская антропологическая школа);
- театровед О. Астахова (РГГУ);
- киновед И. Михайлова (ВГИК);
- переводчик, культуролог С.Н.Зенкин (ИВГИ);
- редакторы журнала "Новое литературное обозрение И. Кукулин, М. Майофис;
- студенты РГГУ, ИЕК;
- журналист Российской газеты Е. Яковлева;
- режиссер документального кино В. Манский (Вертов-студия);
- киновед и театровед З. Абдуллаева (журнал "Искусство кино");
- куратор фестиваля видео-арта "Пусто" И. Саминская
- смогли стать свидетелями дискуссии, главной темой которого стихийно стал скепсис публики по поводу возможности показать этот фильм здесь и сегодня по российскому телевидению. Аргументами безутешной позы стали такие предположения о характере деятельности программных директоров телевизионных каналов, которые откажут в показе SHOAH из-за:
- тривиального, привычного, бытового игнорирования неизвестного, а классика европейского кино вдруг оказывается таким неизвестным для программных директоров отечественных каналов;
- очевидная неформатность фильма;
- внеположность, предлагающих лиц телевизионному полю; их неавторитетность.
Каждый из этих аргументов вскрывает проблемы социального устройства российского публичного пространства и СМИ и достоин комментирования.
Несмотря на то, что многие из обсуждавших все три дня не отрываясь смотрели SHOAH, видимо находя в нем нечто втягивающее и неотпускающее, с готовностью приписали воображаемой будущей аудитории - недоверие, неприятие и непонимание. В ход шли рассуждения о политической ситуации, и , о возможно, самых печальных последствиях для принявших решение о показе.
"Неформатность" фильма кинокритиками и философами инерпретировалась по-разному. К. Ланцманн ставит под вопрос рамки медийного жанра - документального фильма, в частности, за счет почти непереносимой длительности и монотонности технологических приемов: пейзаж сменяет интервью и так на протяжении девяти часов. Зритель вынужден поставить SHOAH не в ряд других фильмов, в том числе и канонических фильмов о Холокосте, но в ряд рефлексивных текстов: эссе, исследований, картин, мемориальных мест, памятников и т. д.
Российскому публичному пространству незнакома фигура активного зрителя, влияющего на содержание программ. Очевидно, оно устроено так, что активность зрительской аудитории может вылиться лишь в участие в ток-шоу.
Клод Ланцманн 12 лет провел в работе над этим фильмом: жестоким, не дающим ответов, не оставляющим шансов прекраснодушию и просветительским иллюзиям. Его скептичные посылки таковы:
- Холокост нельзя считать пережитым: в Европе 70-80х, в которой К.Ланцманн снимает свой фильм, обнаруживаются все бытующие со средневековья общие места антимсемитизма, стоит только правильно задать вопрос;
- Архаичные идеи национальной солидарности, национального единства, национального превосходства, приведшие к Катастрофе, живы и дают знать о себе, стоит только интервьюируемому заговорить.
- Человек обживает мир, предлагаемый ему обстоятельствами. Его адаптивные способности, приводящие к пассивному конформизму, поистине безграничны.
- Человеку крайне сложно увидеть новое и катастрофичное. Трудно в привычном ходе вещей усмотреть еще не виданное. Человеку свойственно бороться за сохранение "нормальности" своей жизни, длить повседневность, игнорировать все, что выпадает за рамки понимания, даже если он становится участником глобальной катастрофы.
Этот фильм не устаревшая документалистика 1985 года, это пропущенная нами классика. SHOAH сыграл свою роль не только в развитии документального кино, но и в развитии кинематографа в целом. Стоит лишь понять, что Ларс фон Триер в фильмах "Европа" и "Догвиль" рассчитывает на аудиторию, видевшую SHOAH К.Ланцманна.
Возможно ли удержать память о катастрофе способами, иными, нежели один из центральных ритуалов траура в современном российском обществе - минута молчания, превратившаяся в 2005 году, из экономии эфирного времени, в 30 секунд тишины?
Опыт П. Целана, Имре Кертеса, Тадеуша Боровского, Жана Амери, Примо Леви дает нам возможность помыслить катастрофу. Эта возможность связана с попытками заново собрать разрушенные язык, ценности, культуру. И на этом пути человека могут сопровождать только тексты, апеллирующие к сознанию и рефлексии. Фильм Клода Ланцманна обрел свое место в этом ряду. И мы хотим дать возможность российской аудитории не только стать свидетелем катастрофы европейской культуры, но и увидеть, что человеческие качества, приведшие к катастрофе, катастрофу пережили.
Текст Юлии Лидерман и Даши Ли | |