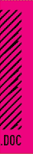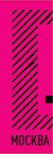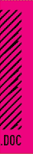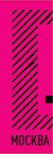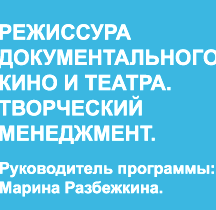

|
Бес достоверности
ЭКСПЕРТ | Всеволод Бродский
Документалистика становится способом преобразования отечественного кинематографа
В Москве открывается очередной, третий по счету фестиваль «Кинотеатр.doc». Разнообразных кинофестивалей у нас не счесть, и в чем смысл большей их части, мало кто понимает; «Кинотеатр.doc», при всей своей принципиальной негромкости, резко выделяется на этом фоне. Здесь ориентируются на новые имена — хоть это и не фестиваль дебютов; а главное, здесь пытаются создавать полигон для опробования нового способа взаимодействия кинематографа с реальностью. Несмотря на расширение doc, это вовсе не стандартный фестиваль документального кино — встречаются здесь и игровые фильмы, это отсыл к куда более раскрученному «Театру.doc», давно уже ставшему привычной театральной технологией.
В «Театре.doc» ставят пьесы, состоящие из записей реальных монологов реальных людей, из непридуманных, вычерпанных из жизни текстов. В «Кинотеатре.doc», разумеется, приходится имитировать жизнь более изощренным образом. Вооруженный видеокамерой режиссер, он же, как правило, и оператор, своеобразным батискафом погружается в толщу действительности, вылавливая из нее богатый улов. Камера неловко ерзает по лицам героев, монтаж неряшлив и телевизионен, звук грязен, реплики порой различимы; кино пытается превратиться в замочную скважину, сквозь которую зритель подглядывает за чужой жизнью.
Кино вместо уголовного дела
Именно такие фильмы — основа программы нынешнего фестиваля. Валерия Гай-Германика, прославившаяся в прошлом году фильмом «Девочки» — где полчаса нам демонстрировали, как вполне среднестатистические юные обитательницы какой-то московской окраины пили — курили — ругались матом в подъезде, — на этот раз присутствует в конкурсе с фильмом, естественно, «Мальчики». Это уже не столь хаотическое, лишенное всякого подобия драматургии кино. Речь здесь идет о двух братьях из весьма неблагополучной семьи: довольно дикого вида мать пьет по-черному, отец, цыган в шляпе, живет отдельно. Детей — похоже, из-за материнского запоя — отвозят на временное содержание в интернат; они рвутся обратно домой и под конец туда действительно попадают — чтобы обнаружить дошедшую совсем уж до ручки мать. Младший брат рыдает, конец фильма. История, что и говорить, трагическая; но куда более шокирует другой конкурсный фильм — «Бес» Александра Малинина.
Бес — прозвище главного героя, бывшего уголовника, ныне живущего счастливой семейной жизнью. Он купает младенца Сашеньку, вытирает ей ножки, укачивает ее; учит пить чифир пасынка лет двенадцати (необыкновенно трогательная сцена); перерезает глотку собакам, поскольку пытается вылечиться от туберкулеза собачьим мясом (в самые критические моменты, впрочем, наступает спасительное затемнение). Наконец, договаривается с каким-то соседским пареньком об убийстве его отца — в обмен на мобильный телефон. Паренек конфузливо улыбается скрытой камере, подобострастно глядит на оставшегося за кадром Беса, пытаясь объяснить, за что же, собственно, надо пристрелить папашу — дерется, мол, когда напьется, ну и вообще, они никогда друг друга особо не любили.
По идее, конечно, здесь должен был бы встать вопрос о моральной ответственности режиссера — похоже, не кино тут надо снимать, а идти в милицию с изобличающим материалом. Сделал ли это Александр Малинин, неизвестно; дело в другом — в том, что в рамках выбранной им эстетики этот вопрос вообще не существует. Он снимает кино, которое притворяется, что его никто не снимает, что оно и не кино вовсе. Здесь будто бы нет человека за камерой и человека за монтажным столом; есть лишь бесплотным духом витающий в воздухе оживший объектив, глубинный зонд, погруженный в чужую биографию.
Впрочем, подобной радикальности сумели достичь отнюдь не все участники фестиваля. Большая часть прочих фильмов не претендует на столь высокоразвитую иллюзию достоверности. В «Гербарии» Натальи Мещаниновой речь идет об обитательницах дома престарелых; они пляшут, занимаются физзарядкой, поют, выговаривают на камеру свои обиды на соседок. Порой это скучно, порой — поразительно интересно: некоторые подсмотренные сцены не смог бы придумать лучший из лучших сценаристов. В очень остроумной «Жизни» Павла Егорова самая различная публика, случайно встреченные на улице рассказывают о себе — смешные девочки, мечтающие стать царицами, парочка веселых и кокетливых голубых, обитающие на вокзале девочки-делинквенты, юмористические старухи. «Идиот» Юлии Панасенко и Светланы Стрельниковой — хоть и чернуха, но очень пронзительная. Юношу, которого мать-пропойца сдала в психлечебницу, признали недееспособным; он сбегает из дурдома, пытается вернуться в нормальную жизнь, живет на чердаке, подрабатывает проституткой на Плешке — ну и так далее.
Примитивизм как вакцина
«Москва» Бакура Бакурадзе и Дмитрия Мамулия — игровое кино с актерами-гастарбайтерами
В истории отечественного кинематографа было несколько моментов, когда на первый план выходило именно документальное кино: в 20−е годы, с легкой руки Дзиги Вертова, или, например в 60−е, после «Обыкновенного фашизма» Михаила Рома. Каждый раз это не было случайностью: кинематограф искал новые способы освоения реальности, и вполне закономерно местом для экспериментов становилась документалистика. Наше кино в последнее время даже и не пытается нащупать хоть какую-то связь с действительностью, целиком уйдя в некие выморочные сферы, демонстрируя на экране почему-то говорящих по-русски антропоморфных инопланетян. В такой ситуации вполне естественно появление «Кинематографа.doc», который пытается заговорить со зрителем напрямую, устранить сложную систему стоящих между жизнью и экраном фильтров, с помощью которых, собственно, и делалось испокон века кино, — операторскую работу, режиссерское видение и так далее.
Разумеется, это иллюзия. Устранение фильтров — тоже фильтр, и довольно мощный; не случайно примитивизм — это вариант модерна. Мнимое отсутствие автора означает только то, что он искусно прячется среди им же созданных декораций. Кино, с его прямоугольной рамочкой, не может не быть условностью. Новая натуральная школа никогда не сумеет, к счастью, стать мейнстримом, и нам не грозит в ближайшие годы бесконечно разглядывать татуировки на плече очередного беса или страдания подростков из неблагополучных семей. Зато у нас появилась мощная вакцина для прививки отечественного кинематографа от заразы выморочности.
Не случайно, кстати, наиболее интересный фильм фестиваля — «Москва» Бакура Бакурадзе и Дмитрия Мамулия — очень мало похож на остальных участников конкурса. Это, собственно, игровое кино, камера не имитирует здесь домашнюю видеосъемку, съемочная группа состоит отнюдь не из двух человек. Единственное, что роднит «Москву» с «Кинотеатром.doc», — непрофессиональные актеры, среднеазиатские гастарбайтеры, играющие самих себя. Бакурадзе и Мамулия сняли медлительный, красочный фильм — явно в иранской традиции; это прекрасный пример того, чего может добиться отечественный художественный кинематограф с помощью обращения к документалистике.
Тотальный репортаж
О новой документалистике с «Экспертом» поговорил Борис Хлебников, программный директор фестиваля «Кинотеатр.doc» и режиссер, снявший фильмы «Коктебель» (вместе с Алексеем Попогребским) и «Свободное плаванье».
— В чем, собственно, суть вашего фестиваля?
— На самом деле мы столкнулись с тем, что за три года фестиваль потерял концепцию. И я считаю, что это отлично. Первая наша программа была очень неровной. На двадцать пять фильмов было три отличных, пять — ничего себе, остальные, в общем-то, не очень. Но тогда у нас была жесткая, абсолютно маргинальная позиция — в документальном кино не должно быть интервью, вообще не нужна музыка, не должно ощущаться присутствие автора, вместо пленки должна быть видеокамера. Все, что нужно, — максимальное отсутствие автора на площадке и пристальное слежение за персонажем. Вот тогда у нас действительно была концепция — хотя казалась она очень странной, очень непонятной, чудной.
— А почему вы сразу же стали объединять документальное кино с игровым?
— Художественное кино мы старались брать такое, которое было очень близко к документальному — по игре актеров, по простоте истории, по манере съемки. Наш девиз тогда был — чем проще, тем лучше. В то время для себя я сформулировал очень важную вещь: кино с приобретением цифры стало доступным видом искусства. Если ты хочешь стать писателем, тебе нужно двести рублей, чтобы купить пачку бумаги и ручку, — и все, можешь писать, если есть талант и желание. В кино, когда в наличии была только пленка, такого не могло быть: чтобы снять не самый сложный фильм, нужен был миллион долларов. Появившееся видео превратило все в хаос — теперь каждый может взять камеру и снять кино. Фильм «Пыль», который мы первыми показали на нашем фестивале, был сделан за три тысячи долларов, из которых полторы ушло на гонорар Мамонову. Тогда это казалось очень борзо, очень нагло — а сейчас это уже никак, потому что сейчас так снимает огромное количество людей.
— Даже 80−летний Герц Франк, автор классического «На десять минут старше», снимает теперь на видео.
— Вот именно. Мы потеряли уникальность своей концепции. Но потеряли — хоть в какой-то степени, смею надеяться, — благодаря нашей же работе. Такие люди, как Павел Костомаров, Валерия Гай-Германика, Сергей Лобан, продемонстрировали, что можно простыми способами добиваться отличных результатов. Нынешняя конкурсная программа, как мне кажется, самая серьезная за все время существования фестиваля. Теперь у нас очень высокий средний уровень. Впервые мы спорили не о том, какие фильмы включить в конкурс, а о том, какие выбросить — потому что хорошего было очень много, а программа у нас принципиально компактная.
— Получается, вы изначально хотели сделать кино неэлитарным искусством?
— Наоборот. Когда к кино прибавляется производственная часть, оно как раз и становится неэлитарным, подверженным большому количеству всяких «но» — сборы, окупаемость и прочее. А система цифровой съемки лишает кинематограф всей этой фигни. Остается главное — заложенное в фильм послание, которое по определению единично, элитарно. Самый прибыльный фильм российского кино, кстати, — «Пыль», потому что он не стоил ничего.
— Я замечал, что люди, которые снимают вот такое кино — без фигни, если использовать ваш термин, — зачастую теряются, когда пытаются поставить обычный, традиционный, профессиональный фильм.
— Понимаю, о чем вы говорите. В прошлом году мы сделали на фестивале большую программу зарубежного короткометражного кино. Когда я смотрел все эти фильмы — немецкие, бельгийские и так далее, — я офонарел от того, насколько это профессионально сделано. Я смотрел фильм за фильмом и понимал, что каждый из них — просто справка об абсолютной профпригодности. Любому из этих студентов можно поручать снимать любую историю, и он очень грамотно справится с процессом. И в какой-то момент я подумал: отчего же у нас такие гады во ВГИКе, почему же они так плохо учат студентов? Пробиться куда-то получается только крупным талантам, все остальные тонут в хаосе своих идей, которые они не знают, как оформить. Это ведь совершенно негуманно — производить несчастных людей. Но, с другой стороны, я поймал себя на мысли: из всего, что было у нас на фестивале, только к нашим фильмам можно отнестись как к человеческим посланиям. Те, западные, фильмы — очень профессиональны, но абсолютно обезличены. Там нет вообще никаких эмоций — только механические страх, ужас, слезы, страсть, как будто какая-то прекрасно функционирующая киномашина все это произвела, обработала и выплюнула некий качественный продукт. А в наших фильмах, которые, бывает, сделаны коряво, так-сяк, случаются порой настоящие прорывы. Я вот смотрю, что делает та же Гай-Германика, и вижу, что каждый ее следующий фильм становится все более структурирован, она очень быстро набирает профессию. В наших условиях ей позволили сделать кино, когда она толком еще ничего не умела, — и дали ощущение легкости, уверенности в себе.
— Неужели эта легкость исчезает при профессиональной подготовке?
— Когда у человека есть видеокамера, ему гораздо проще: сегодня он придумал, завтра снял. Там может быть миллион недостатков, но постепенно он разберется и начнет снимать здорово. Да, многие фильмы на нашем фестивале хаотичны, неупорядоченны. Но когда их авторы начинают делать следующий фильм, я вижу, насколько быстро они растут. Растут все, кому это дано, — и при этом они не ощущают себя винтиками отлаженной машины, они растут туда, куда захотят. А сразу шедевры не получаются. Кто помнит первый фильм Феллини?
— Насколько новая техника способна изменить способ взаимоотношений с документом, с реальностью?
— Вот, например, знаменитый фильм «Свято» Виктора Косаковского. Это фильм о том, как его двухлетний сын впервые увидел себя в зеркале. Режиссер поставил камеру, и фильм закончился, когда закончилась десятиминутная кассета с пленкой — и когда стало происходить все самое интересное. Видео не кончается как минимум час. Кроме того, современная техника гораздо компактнее, и это очень сильно влияет на взаимоотношения героя и режиссера. Допустим, я хочу снять фильм о том, как вы проводите день. Смотрите — вы будете ходить по городу, а я буду ходить за вами вот с этой пепельницей. Или же буду преследовать вас, таская за собой вот этот огромный стол, и мне будут помогать его носить еще несколько человек. Степень проникновения в вашу жизнь, в вашу личность у меня будет совершенно разная.
— Все это не может не сказаться на кино в целом.
— Оно и сказывается. Та же самая «Догма» продиктована во многом тем, что кино в разные эпохи ищет максимальную степень достоверности и воздействия на человека. Почему Алексей Герман в семидесятые снимал черно-белое кино? Потому что время, о котором он рассказывал — тридцатые-сороковые, — мы воспринимаем по хронике, и самое достоверное для нас — монохромная пленка. А историческое кино — всегда цветное: так для нас достовернее, потому что историю мы знаем по живописи. Ленин для нас — очень быстрый человечек, а вот Крупская жаловалась на его медлительность. Просто мы знаем его по старой хронике, которая снималась с меньшей, чем сейчас, скоростью кадров в секунду, и персонажи там двигаются в ускоренном темпе. А «Догма» впервые поняла, что человечество воспринимает реальность через телевизор. Достоверность для нас — это репортажи, это какой-нибудь «Дорожный патруль», когда оператор прибежал и снял что успел. Для людей, которые смотрят телевизор, привычна именно такая оболочка информации — дерганая, некрасивая, неряшливая. То же самое происходит и в документальном кино. Невозможно сейчас снимать документальное кино с музыкой, с панорамами деревенских красот, с долгими изысканными кадрами.
— А что же надо снимать?
— Новое кино только сейчас оформляется, и потихоньку оно во что-то оформится. Меняется все, вплоть до актерской игры. Я недавно делал театральный цикл для канала «Культура» и отсмотрел огромное количество мхатовских спектаклей, со всеми их великими мхатовскими старухами, с Качаловым. Сейчас это звучит невыносимо фальшиво, это невозможно сейчас смотреть. Уже в шестидесятые это стало выглядеть фальшью. И сейчас в очередной раз, мне кажется, пора переориентироваться на несколько другую актерскую игру. Старая уже не канает. В этом смысле был абсолютным прорывом Бодров-младший.
— Который вообще не играл.
— Который вообще не играл, который просто бубнил свой текст, у него была плохая дикция… Если посмотреть просто кусочек из любого фильма с его участием — это, в общем-то, даже не очень обаятельно. Посмотришь весь фильм — понимаешь, что это абсолютно уникально, потому что происходит стопроцентная трансляция личности. Или вот фильм «Остров» — абсолютно документальный Мамонов, и все окружающие его прекрасные артисты смотрятся на его фоне совершенно картонными. Степень достоверности все время меняется. Не то чтобы количество реализма постоянно увеличивается — просто у любого времени свой реализм.
| |