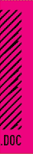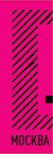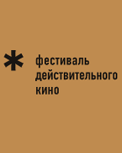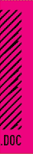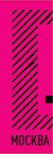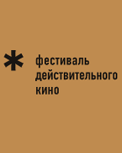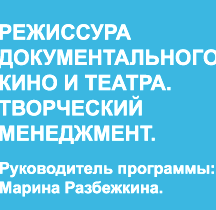

|
И такое вот зеркало жизни
Литературная газета | Ильмира Болотян
Российско-польская лента «Семена» (режиссёр Кшиштоф
Копчински) стала одним из призёров
смотра
В продолжение семи дней на двух «продвинутых»
столичных площадках – в «Театре.doc»
и «Актовом зале» – проходил третий
по счету «Кинотеатр.doc» – «фестиваль
действительного кино». И если первый
подобный кинофорум возник как альтернатива
«возрождённому» отечественному кинопроизводству,
а второй – дал критикам повод говорить
о «новой натуральной школе», то
нынешний показ начался с обращения
организаторов за помощью. За три
года условно названное ими «действительное»
кино успело стать модным, превратилось
в бренд, штампы оказались сформированы
быстрее, чем было отрефлексировано
само явление. Фильмы, которые на
первый взгляд могли существовать
только в маргинальном пространстве,
вдруг оказались в Каннах, на «Кинотавре»,
«Киношоке». Организаторы не скрывали,
что в программе на самом деле мало
достойных фильмов, и призывали зрителей
не развлекаться, а сотрудничать:
вместе искать новые смыслы и свежие
идеи.
О том, состоялось ожидаемое сотрудничество
или нет, можно будет судить, наверное,
по итогам следующего фестиваля.
Фильмы же этого смотра поразительно
схожи по приёмам. Это прежде всего
наблюдение и отсутствие авторской
позиции. Ярко выраженные в картине-победителе
прошлого года – «Девочках» Валерии
Гай Германики, они были поддержаны
и отработаны молодыми документалистами,
среди которых оказались и постоянные
участники фестиваля. На фоне затянутых
и невнятных фильмов выгодно отличались
те, где хоть как-то подумали о зрителе.
Провокация как приём – ещё одно
отличие «действительного» кино.
Вот, например, как начинается «Бес»
Александра Малинина, награждённый
специальным призом фестиваля «За
дерзость художественных решений».
Матёрый мужик харкает кровью около
тубдиспансера. Ясно, болен туберкулёзом.
Дальше – точат нож, связанная собака.
Её грустная морда крупным планом.
Ясно, сейчас собачку зарежут. Первая
реакция зрителей, особенно любителей
животных, – возмущение, отказ от
дальнейшего просмотра. Но, собственно,
само убийство не показано. Дальше,
как и в фильме Малинина прошлого
года «А с детьми – шестеро», – о
родителях-наркоманах и их детях,
– совсем другие картины, семейные
и по-своему симпатичные. Жена Беса
с младенцем на руках варит «борщик»,
Бес учит своего старшенького пить
чифирь, весь в тюремных наколках,
он купает свою маленькую дочку в
тазу, долго укачивает её на руках...
Однако сцена с собакой не даёт покоя,
вокруг героя режиссёром с самого
начала сформировано поле опасности.
И когда к нему в гости приходит
местный дурачок, чтобы «заказать»
своего папашу, поневоле поддаёшься
на провокацию: а вдруг и правда
здесь на глазах планируется убийство?
(Фактически так оно и выглядит.)
А Бес всего-навсего лечится мясом
собак от туберкулёза, о чём отдельно
сообщается в титре где-то в середине
фильма. Так «действительное» кино
превращает зрителя в заядлого вуайера,
готового воспринять то, что ему
показывают, на самом низовом уровне
своего восприятия. Зритель видит
в Бесе «убийцу» только потому, что
так спланировал режиссёр.
Несмотря на идеально просчитанную
реакцию, от картины всё же остаётся
ощущение нестройности, нерассчитанности.
Это, скорее, материалы к фильму,
галерея портретов. Сцена местной
дискотеки, где отрывается сын Беса,
вообще тянет на отдельный номер
и ничего не добавляет в восприятии
героя.
Ещё одна провокация хорошо сработала
в фильме «Идиот» Юлии Панасенко
и Светы Стрельниковой (приз телеканала
«24 ДОК»). Сначала авторы показывают
нам человека, заведомо обречённого
на сочувствие: несчастный случай
в детстве, жизнь в очень закрытом
интернате, куда его засадила спившаяся
мать, побег, жизнь на улице и страшный
диагноз, который не даёт ему существовать
как нормальному человеку. «Идиот»
хочет с помощью суда восстановить
свою дееспособность, посещает синагогу
и даже получает оттуда помощь, назвавшись
Френкелем. Суд постоянно откладывается…
Но вот этого же человека мы видим
в гей-клубе – единственном месте,
где, по его словам, он «чувствует
себя в своей тарелке», где его принимают
таким, какой он есть. Дальше – его
мать доказывает режиссёрам (а попутно
– зрителям), что её сын действительно
«идиот», да ещё (дама понижает голос)…
гомосексуалист. Таким образом, фильм
из истории о том, как из человека
сделали «идиота», превращается в
историю «идиота»-гомосексуалиста,
пытающегося доказать свою состоятельность
по всем пунктам.
Фильм «Гербарий» Натальи Мещаниновой
ни провокацией, ни какими-то особыми
экспериментальными приёмами не отличается,
однако именно он получил один из
призов фестиваля «За лёгкость и
деликатность там, где это очень
трудно». Сюжет – конкурс красоты
в доме престарелых. Казалось бы,
предсказуемая история, знакомая
фактура, но вся прелесть – в величии
замысла. Со зрителем здесь не играют,
к нему выходят с открытым забралом,
объявляют тему, и зритель понимает,
что сейчас ему покажут не безделушку.
Старость на пороге смерти, красивая
старость, безобразная…
Браться за высокое и вечное – опасный
путь для молодого автора и более
сложный, чем зарисовки реальности,
однако всегда – более выигрышный.
Идеальным примером здесь выступает
фильм Алины Рудницкой «Гражданское
состояние» (приз «За самое легкомысленное
высказывание о вечном и верность
духу классического документального
кино»). Режиссёр, по сути, сделала
те же самые зарисовки будней, выбрав
площадкой один из ЗАГСов: старушка
пришла оформлять развод; супруги
тут же, на месте, выясняют отношения;
доведённый бюрократией мужчина,
вспылив, хлопает дверью; сочетаются
браком молодые пары, счастливые
и не очень; оформляют свидетельства
о смерти… Однако помещённые в контекст
тех самых гражданских состояний:
регистрации – развода, смерти, –
эти маленькие человеческие истории
приобретают поистине глобальное
значение. Верность духу классического
документального кино автора здесь
не подвела.
«За следование русской классической
традиции» был награждён также игровой
фильм «Москва» Бакура Бакурадзе
и Дмитрия Мамулия. Здесь быт гастарбайтеров
и их семей, ютящихся в тесных общежитиях,
контрастирует с по-настоящему нарядной
и богатой столицей. Картины двух
непересекающихся миров, рабочие
– как инородные элементы на фоне
целующихся парочек, панков, беззаботных
скейтбордистов, дорогих машин и
рекламных билбордов, социальная
составляющая (по сюжету героям не
платят за работу вот уже несколько
месяцев) и как финал – лысые головы
скинхедов, окружающие заблудившегося
в Москве паренька, плохо говорящего
по-русски. Несмотря на то что фильм
снят в документальной манере, он,
пожалуй, единственный отвечал девизу
фестиваля этого года – «Помни, что
ты художник». Это как раз тот случай,
где искусство эстетизирует жизнь.
Возвращение к традициям так или
иначе наблюдается даже у тех авторов,
которые поначалу представляли «предавангард»
«действительного» кино.
«Мальчики» Валерии Гай Германики
продолжают начатую режиссёром в
фильмах «Сёстры» и «Девочки» линию
полного погружения автора в жизнь
своих героев, однако в них поток
выхваченных из будней картин сменился
внятной, выстроенной историей о
двух братьях, которых не живущий
с ними отец-цыган пытается увезти
от матери-алкоголички в интернат.
Малолетних хулиганов это, конечно,
не устраивает. Отец увозит их к
родственникам-цыганам, но и здесь
плохо. Хочется домой. А дома у этих
мальчиков нет. Там – грязь и пьянющая
мать с фингалом. Бытовая история
о неблагополучии к финалу оформляется
в притчу, однако ей не хватает взгляда
«над ситуацией».
Большинство остальных фильмов фестиваля
– внятные и невнятные зарисовки
о людях – занятных, сумасшедших,
обычных и не очень. Внеконкурсный
показ, по словам организаторов,
вообще представил фильмы режиссёров,
которые пока не научились оформлять
интересный материал в полноценные
картины.
В целом же молодые документалисты
из двух позиций – искусство как
зеркало жизни и искусство как средство
воздействия и изменения окружающей
действительности – однозначно выбирают
первую в отличие от западных режиссёров,
представленных в международной программе.
«Действительное» кино, в своём рвении
достигающее нетронутых пластов жизни,
существует пока как вещь в себе.
Однако независимо мыслящая документалистика
всегда оказывала влияние на игровой
кинематограф, выдвигала свои критерии
требований к экранному реализму.
В случае с «Кинотеатром.doc» говорить
о каком-то противостоянии или существенном
влиянии на отечественное кино пока
не приходится. В этом отношении
более удачно складываются дела у
«Новой драмы», популярные режиссёры
и драматурги которой плавно перешли
в кинопроизводство. Осознавая это,
организаторы фестиваля открещиваются
от быстрых побед в пользу «смиренного
ученичества». «В скромности и труде
куда больше смысла и достоинства…»
– взяв рубеж официально признанного
андеграунда, «действительное» кино
начинает осваивать мастерство.
| |